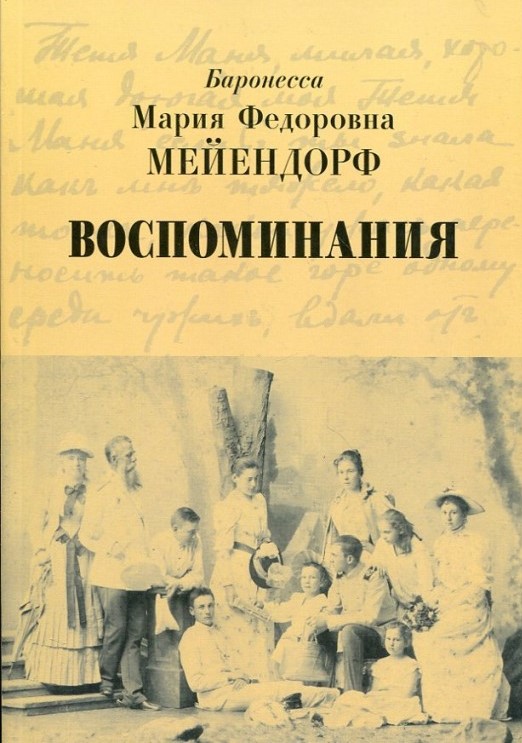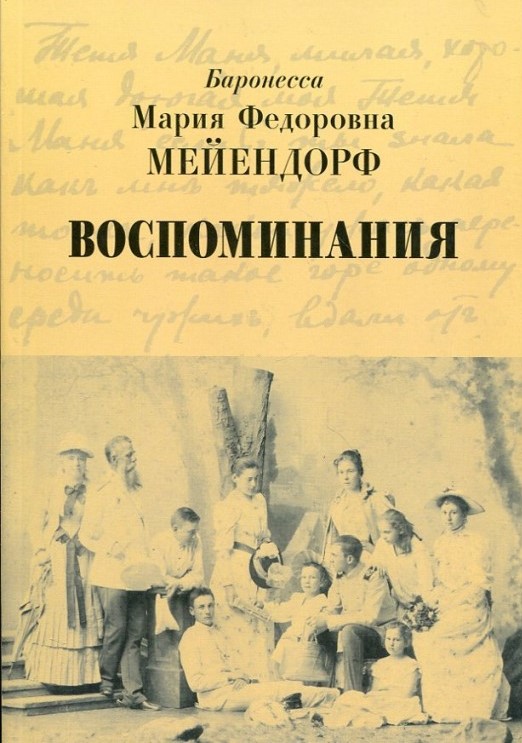
В поиске ответов на насущные, порой очень болезненные и острые вопросы о воспитании своих чад современные православные родители имеют возможность обращаться и к духовным советам – святоотеческой литературе, беседам со священниками, и к мнению профессиональных специалистов – психологов, практикующих педагогов, детских врачей. Но по-прежнему неоценимым является личный родительский опыт, собираемый по крупицам: чем-то поделились семейные друзья, о чём-то рассказала бабушка…
Иногда замечательные «жемчужинки» этого личного опыта встречаются и на страницах книг, которые задумывались и создавались, казалось бы, отнюдь не как руководства по воспитанию детей. Сегодня мы хотим познакомить вас с небольшими фрагментами именно из такой «неспециальной» книги: «Воспоминания» баронессы Марии Фёдоровны Мейендорф (М., Издательство Сретенского монастыря, 2014).
Её автор – представительница аристократического российского рода, прошедшая почти вековой жизненный путь, в течение которого она побывала и подданной царской России на рубеже XIX-XX-го веков, и гражданкой Советского государства в страшные революционные, трагические для многих предвоенные и тяжкие военные годы, и эмигранткой на разных континентах.  Среди её близких родственников – хорошо известные нам замечательные личности: епископ Василий Родзянко (родной племянник), протопресвитер Иоанн Мейендорф (двоюродный племянник), автор учебника Закона Божия для детей София Куломзина (жена другого родного племянника).
Среди её близких родственников – хорошо известные нам замечательные личности: епископ Василий Родзянко (родной племянник), протопресвитер Иоанн Мейендорф (двоюродный племянник), автор учебника Закона Божия для детей София Куломзина (жена другого родного племянника).
Создававшиеся первоначально не для публикации, а для членов семьи, воспоминания «тёти Мани», как ласково называли автора её младшие родственники, знакомят читателя с большим, многодетным, дружным дворянским семейством, жизнь которого на протяжении нескольких поколений зиждилась на непререкаемых, вошедших, так сказать, «в плоть и кровь» его членов принципах. Это и непоколебимая порядочность в отношениях с любыми людьми, и вызывающее восхищение неиссякаемое трудолюбие, и тихая, как бы естественная жертвенность, и глубокое внутреннее согласие с волей Божией, не исключающее при этом деятельной борьбы с трудностями жизни… А ещё – это очень прочные семейные связи, когда близкими и родными становятся даже дальние родственники, и их потомки, и даже их окружение, а также – умная, требовательная, но при этом нежная и заботливая любовь к детям, воспитывающимся в такой семейной атмосфере как бы «сами собой»…
Из детских воспоминаний
Моя мать поставила себе целью воспитание своих детей и выписала себе всевозможные книги по воспитанию и преподаванию. Она умела разбираться в них и рассказывала нам потом, что она много вздорных советов перечитала, но не принимала их к руководству. Кого она считала весьма умным педагогом – это Ушинского. По его книжечке «Родное слово» мы и учились с ней чтению и письму.
Какие же принципы легли в основу того воспитания, которое она нам дала? Нельзя мне не остановиться на них: воспитание наше было совсем особенное. Говорю это смело, потому что почти нигде не видела, чтобы оно было применяемо с такой последовательностью и с такой выдержкой: нас никогда не наказывали за дурные поступки и никогда не награждали за хорошие; нам никогда не грозили никакими лишениями и не соблазняли никакими подачками. Как солнце светит на добрых и на злых, так и удовольствия широко сыпались и на провинившихся, и на безупречных. За поступки не следовало возмездия. Вы можете подумать, что, вероятно, мы были страшно распущенные дети! Непослушные! Недисциплинированные! Представьте себе, что наоборот. Как же могло случиться такое чудо? Постараюсь объяснить это.
К послушанию мать приучала своих детей с младенческого возраста: ребёнок, сидя на руках у няни, протягивал ручку к предмету, лежащему на столе, – предмет отодвигался, и ему говорили «нельзя». Ребёнок взял предмет, у него его спокойно отнимали и говорили «нельзя»; ребёнок брал предмет в рот – у него осторожно вынимали его изо рта и говорили «нельзя». Он научался, что «нельзя» означает, что этого не будет, что к этому нечего и стремиться, что это действие неосуществимо. «Нельзя» – значит невозможно.

Вот он уже постарше, он ходит, он хочет войти в комнату; ему говорят «нельзя», отводят от двери, запирают дверь, если надо; ему приходится преклониться перед невозможностью, перед «нельзя». С другой стороны, мать никогда не говорила: нельзя плакать, нельзя кричать, нельзя смотреть туда или сюда; она не могла остановить это действие извне. Она говорила: «уйди», и если он не уходил, то уводила его; говорила «приди» и привлекала его; говорила «встань», «сядь» и т.д., но не говорила: скажи мне то-то, или «улыбнись», или «молчи».
Дав приказание, надо быть в состоянии заставить ребёнка исполнить его. Другие, неопытные воспитатели, считая, что надо заставить ребёнка исполнить приказ, начинают бить и «добиваются», т.е. применяют пытку (простите мне такое преувеличение) или пускаются на подкуп: перестань кричать, плакать, топать ножкой и т.д., и я тебе дам конфету, сахару и проч.
Но родители мои умелым употреблением слов «нельзя, можно, надо, необходимо» приучили нас к тому, что другого выхода нет, как послушаться, и мы росли послушными детьми, вызывая подчас удивление окружающих. Приказания и запреты не были в зависимости от настроения старших: никогда нельзя было есть фрукты перед самым обедом; всегда надо было отправляться спать в таком-то часу; всегда надо было надеть то пальто, которое старшие считали соответствующим данной погоде. Не было ни споров, ни упрашиваний, ни протестов: сказано и кончено. И недаром родители так внимательны были к себе и к предъявляемым нам требованиям: нас было девять человек детей; все буйные, весёлые, все нервные и обидчивые, упрямые, капризные и неугомонные. Но определённая дисциплина была; были рамки, в которых проявлялись все мелочи наших разнообразных характеров; когда кто-нибудь из нас выходил из себя, начинал реветь, кричать, топать ногами и т.д., его выводили в другую комнату со словами: когда будешь «пай» (этим словом обозначалось спокойное благонравие), то приходи обратно; если он не подчинялся и не оставался добровольно по ту сторону двери, то дверь запирали на ключ или на крючок и впускали бунтаря, как только слышался его спокойный голос: «я уже пай». Никто из нас, детей, не должен был напоминать ему о происшедшем, и взрослые тоже относились к этому как к делу исчерпанному: «что прошло, то прошло и быльём поросло», «кто старое помянет, тому глаз вон» – любимые поговорки нашей милой воспитательницы Елизаветы Васильевны.
Хочется мне поделиться с читателями теми мыслями моей матери о воспитании, которыми она впоследствии делилась с нами, уже взрослыми своими детьми. Она говорила: «Во-первых, я не хотела, чтобы дети мои врали; а это случается с другими детьми чаще всего из-за страха». Чтобы выработать в нас уважение к правде, она никогда не позволяла себе обманывать даже самых маленьких детей, как делали другие матери, которые, уходя из дома, говорили малышу: «Я не уйду, я только в другую комнату пойду и сейчас вернусь». Она никогда не говорила прислуге, идущей отворять дверь на звонок: «Скажите, что барыни нет дома». А сколько матерей делают это, не сознавая, что учат детей врать!

Вторая её мысль была такова: если ребёнок будет стремиться быть хорошим не из любви ко всему хорошему, а из-за выгоды или невыгоды такого-то его поступка, то он войдёт в жизнь с психологией карьериста: я должен поступать так, потому что мне это выгодно.
Вспоминается мне такой факт: приехала к нам в гости во время каникул девочка, воспитывавшаяся не то в институте, не то в пансионе, и с увлечением рассказывала нам, как они там проделывали всякие запрещённые вещи; как страшно было попасться и как весело было хитрить и дурачить старших. Помню, как и мне захотелось быть такой же смелой, так же шалить; мне прямо стало завидно: вот они могут так шалить, а мы не можем, потому что у нас ничего страшного с нами не будет; ведь нас всё равно не накажут. Вся соль шалости пропадала. От нас даже никогда не требовали, чтобы мы просили прощения за сделанный проступок; но чувство своей вины рождалось у нас именно благодаря тому, что нас не наказали; если бы наказали, то было бы чувство, что мы – квиты, а так виноватыми оставались мы.
Мне было года четыре. Не желая подчиниться какому-то требованию, я бросилась на пол и отбивалась кулачками и ножками от Елизаветы Васильевны и матери, желавших унести меня в другую комнату и оставить там в одиночестве. Помню, как сильно я ударила мать каблуком по руке, как был призван на помощь отец и как я оказалась, наконец, в изоляции. И вот, дав своим нервам исход в громком рёве, я успокоилась и, вспомнив свою вину перед матерью, почувствовала, что я в долгу перед ней. Так этот долг и остался на мне; меня ничем не наказали. Я и тогда подумала, если бы меня наказали, я бы уже не чувствовала так сильно своей вины.
Вот это чувство я и выражаю словом «квиты». А сколько других наказанных детей чувствуют себя обиженными, т.е., по их ощущению, взрослые больше виноваты перед ними, чем они перед взрослыми. Ведь надо быть столь духовно близким к Царствию Божию, как разбойник, чтобы сказать, как он: «Мы получаем достойное по делам нашим» (не эти ли слова разбойника вызвали благой ответ Христа?)

Помню и другой случай. Мне десять лет. Мы приехали летом на берег моря. С нами – француженка, чтобы научить нас французскому языку. Её постоянное присутствие тяготит и меня, и восьмилетнюю Анну. И вот мы с ней прячемся в кусты (взяв с собой те чулки, которые мы должны были штопать, – это чтобы потом оправдаться, что мы, дескать, были умницы, работали). Сидим и не отзываемся на зов. Море было у самой дачи. Нас ищут и, нигде не видя, успевают подумать, не утонули ли мы; но натыкаются на нас в кустах. Нас не наказывают, а бранят, указывая, какое мы доставили родителям волнение. И вот опять я осталась в долгу и долго не могла себя простить, как это я не подумала об этом. А если бы наказали, разве я не думала бы, что это несправедливо – взыскивать за то, что я сделала нечаянно; ведь я просто не подумала, что мать может испугаться.
Пример такого воспитания без наказаний я на своём веку видела в двух случаях: в семье моей сестры Ольги Куломзиной, которая, овдовев, осталась с пятью детьми; она их никогда не наказывала, и они слушались её беспрекословно; и в семье её дочери, Лиленьки Ребиндер, у которой сейчас девять человек детей, которых она держит в полном подчинении без всякого наказания. Честь и слава им!
Из воспоминаний о семье Ольги Куломзиной
Младшая сестра Марии Мейендорф, Ольга, в 1919 году потеряла мужа, Якова Куломзина, – он был расстрелян махновцами. Оставшись вдовой с пятью детьми, она в течение нескольких лет, пока не представилась возможность тайно перейти границу, жила порой в почти нечеловеческих условиях и ежедневно сражалась за то, чтобы её дети не умерли с голода. Именно к этому драматическому периоду жизни семьи Куломзиных относится следующий – казалось бы, такой безмятежный – эпизод.
Младших детей кормили молочной кашкой по очереди за неимением посуды. Раз при мне был такой случай: рано утром Ольга сажает на колени Лиленьке маленького Ярослава, чтобы она кормила его кашкой. А Лиленька, нехотя исполняя эту работу, пискливым голосом говорит: «Я ведь тоже есть хочу». Тогда Ольга ласково говорит ей: «Тебе трудно, потому что ты не так думаешь. Я тебя научу: давая ему кашку, ты с каждой ложечкой представляй себе, как ему вкусно и как он рад, и сама радуйся с ним. А потом я тебе дам кашки, и тебе тоже будет вкусно и весело». Лиленька успокоилась. Вот как умела Ольга по-христиански воспитывать детей.
Из воспоминаний о семье Ребиндер

Через много лет, уже находясь в эмиграции, Лиля Куломзина вышла замуж за Александра Ребиндера, который вскоре принял священный сан. В их семье после окончания Второй мировой войны Мария Мейендорф прожила несколько лет – во Франции, в Биарицце, где о. Александр был настоятелем русского православного храма.
Постараюсь теперь описать Лиленьку, как мать семерых детей. Старшему, Ксанику, четырнадцать лет, младшему, Николаю, годика два. Все они бегают по большой столовой, вокруг стола, и по длинному, широкому коридору, полутёмному, идущему посреди дома от передней до чёрного выхода в сад.
Родителям приходится подрабатывать. Отец Александр Ребиндер, священник, супруг Лиленьки, давал уроки русского и немецкого языков, Лиленька – математики. Кроме того, Лиленька занималась штопажом. Это искусство требует близорукого зрения и большого терпения. Состоит оно в том, что повреждённая часть ткани с помощью ниток этого материала, взятых где-нибудь в стороне, заменяется новой. Эту замену можно увидать только с изнанки. Над этой кропотливой работой Лиленька просиживает много часов.
Часто её муж подсаживается к ней и читает ей что-нибудь вслух. Его личный рабочий кабинет находится наверху, при церкви. Сидит Лиленька с работой в столовой или в спальне. Дети возятся кругом неё. Они привыкли забавляться самостоятельно и ни с чем к ней не пристают. Она даже не боится оставить работу, выходя из комнаты: им известно, что трогать мамину работу нельзя, и она вполне может им доверять. Наблюдая за жизнью дома, я не слышу ни упрёков детям, ни окриков, ни угроз. Между собой они не ссорятся и не дерутся.
Я сначала подумала, что, видимо, они у неё родились такими миролюбивыми. Но однажды в нескольких шагах от нас, взрослых, послышался визг и плач двух младших. Оказалось, что они не только подрались, но один из них вцепился зубами в ручку другого. Это были два мальчика. Одному было четыре года, другому два. Обыкновенно матери считают своим долгом сначала гневно накинуться на обидчика и тогда только принимаются утешать обиженного. Лиленька поступила наоборот: она взяла на руки пострадавшего, целовала его ручку, всячески ласкала его и даже не взглянула на согрешившего; а тот молча смотрел на мать и братишку. Прошло несколько минут. Плачущий замолк. Тогда мать ласково взглянула на «агрессора» и сказала: «Теперь и ты приди его поцеловать». Тот сейчас же исполнил это и, мало того, побежал к тому месту, где лежала вызвавшая драку игрушка, и принёс её брату. Тогда и обидчик получил горячий поцелуй матери.

А сколько я видела воспитательниц (матерей, тётушек, бабушек, гувернанток), которые считают священной обязанностью укорить пойманного с поличным, выгнать его из комнаты, нашлёпать или побить справедливости ради, не думая о том, что этим они не мирят, а лишь усиливают появившуюся вражду. В христианских семьях надо бороться с языческой мстительностью: если взрослый наказывает обидчика, то обиженный только сильнее чувствует появившуюся в нём злобу. Не только дети, но и взрослые склонны воспринимать чувства окружающих. Если вы входите в комнату, где все смеются, то на вашем лице появится улыбка, хотя вы и не знаете, чем вызван этот смех. Если вы подойдёте к плачущим, то вас охватит грусть раньше, чем вы узнаете причину этих слёз.
В рассказанном мною случае рассердившийся и укусивший брата заразился материнским состраданием к объекту его злобы и сам пожалел его.
Мои родители не наказывали нас, своих девятерых детей, а только изолировали бунтующего. Их дочь Ольга Куломзина тоже не наказывала своих. Её дочь Лиленька и сейчас продолжает эту традицию.
Её мягкий, добрый, сердечный муж, отец Александр, только поддерживает её в этом методе воспитания. Они воспитывают добрым словом, а не угрозами. Побывавший у них в гостях Серёжа Чертков при мне обмолвился такой фразой: «У них там детей никто не воспитывает!» – «А какие же вышли у них дети?» – спросила я. – «Вот то-то и удивительно, что они вышли очень хорошими». Ни Лиля, ни Алек никогда не бранят детей при посторонних.

Много есть людей с болезненным самолюбием, одна из причин этого в том, что в детстве их детское самолюбие было попираемо взрослыми. Упомяну ещё один пример Лилиного воспитания. В другой мой приезд к ним Миша Катуар гостил у них со своей матерью. Был он мальчик с большой инициативой, всегда что-нибудь выдумает непозволенное. Раз его с его сверстником Серафимом отпустили в город одних. Они что-то там натворили. Мишина мать объявила, что ни его, ни Серафима она без себя никуда отпускать не будет. Серафим привык смотреть на себя как на взрослого мальчика, его всюду пускали ходить одного. Но он кротко подчинился тётке. Скоро пребывание Миши и его матери кончилось. И вот я вижу: тому же Серафиму Лиленька поручила везти на пляж колясочку с очередным младенцем. Лиля знала, что, несмотря на соблазны купания и игр с находящимися на пляже сверстниками, он будет свято исполнять возложенную на него роль нянюшки. Её дети были всегда на высоте оказанного им доверия.
Когда я приехала к ним, четверо старших уже были школьниками. Но классной комнаты у них не было. Стояли их учебные столики – у кого в общей спальне, у кого в столовой. И эти дети садились не развлекаясь готовить уроки, не обращая внимания на разговоры взрослых и на игры младших. Если что им не удавалось, они сами шли за помощью к родителям. Чувство собственного достоинства и внутренняя дисциплинированность были полные. Когда я, четыре года спустя, уезжала из Франции, в семье уже было не семь, а десять детей.